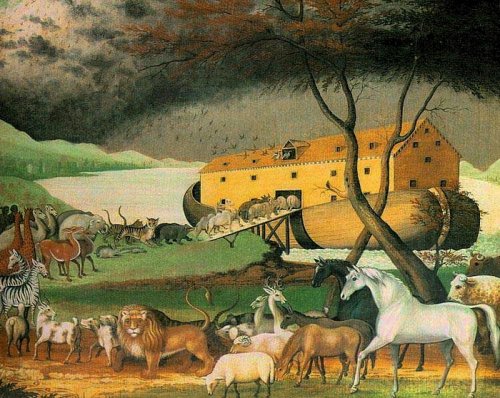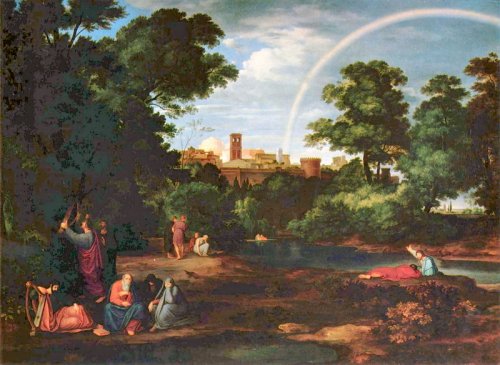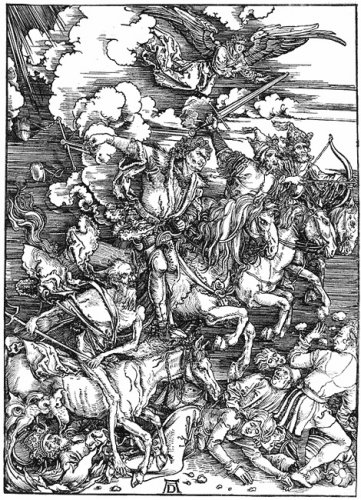Приветствую Вас Гость
Пятница
28.11.2025
00:23
28.11.2025
00:23
Космопорт "Nefelana"
| Форма входа |
| Поиск |
| Календарь |
| Наш опрос |
|
Оцените мой сайт
1. Отлично 2. Хорошо 3. Неплохо 4. Ужасно 5. Плохо Всего ответов: 543
|
| Друзья сайта |
|
|
| Статистика |
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |
Главная » 2008 Декабрь 15 » Шесть возрастов средневекового человека
Шесть возрастов средневекового человека | 22:29 |
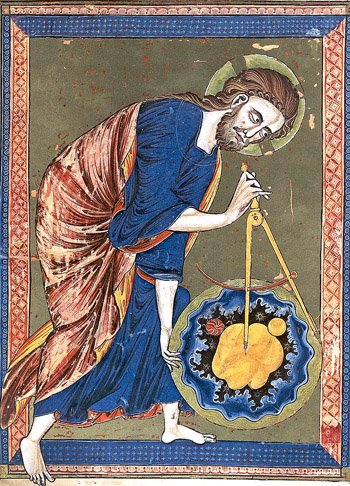 Периоды человеческой жизни, как их отмеряло средневековье, нам показались бы сдвинутыми. Считалось, что юность длится до 25 лет, зрелость до 45, а после того наступает старость. Люди умирали часто и рано: голодовки, эпидемии, войны и феодальные распри делали свое дело. Мы очень мало знаем о средневековом младенчестве. По всей видимости, специального воспитания детей раннего возраста средневековье не знало. Аристократические младенцы отдавались кормилицам, дети крестьян и ремесленников, выйдя из колыбели, ползали по кухне, пока не достигали такого возраста, когда их можно было приставить к какому-нибудь делу. Отрочество завершалось рано: к 12 годам у девочек, к 14 — у мальчиков. Считалось, что в этом возрасте они уже могут вступать в брак и становиться самостоятельными.
 Пассивной и незаметной была роль ребенка в семье. Показательно, что средневековое изобразительное искусство почти не знает детской темы. И ангелы и путти — эроты средневековой скульптуры — изображались в ту пору взрослыми. Скульптура и миниатюра, представляющая Богородицу с младенцем, рисовала Христа непривлекательным младенцем, скорее старичком, чем ребенком. Только в XIII века появляются изображения младенцев, плотно запеленатых и затянутых ремнями. Средневековая литература знает родительскую любовь к детям, но практически не знает детей от момента рождения до той минуты, когда герой, оставаясь еще ребенком по возрасту, проявляет себя взрослым, обладающим недетской мудростью и недетской отвагой охотника или воина. Детство — несамостоятельная стадия, переходное состояние, в нем заключено нечто неполноценное, незавершенное. Городское развитие вносит существенные коррективы в эту средневековую ситуацию. Дети перестают быть только потенциальными жертвами эпидемий, только «неразвиты-ми» взрослыми, но как таковые заполняют дома, улицу и прежде всего школу. Если детства средневековое сознание фактически не признает, то юность, напротив, воспринимается очень отчетливо как особый «возрастной класс». Как правило, юность от зрелости отделяют испытания или торжественная церемония: подмастерье, создав «шедевр», становится мастером, оруженосец посвящается в рыцари, школяр превращается в магистра, послушник — в монаха. С юностью связывается определенная магическая сила: в сельских весенних празднествах, по пове-рию, колдовским способом обеспечивавших благополучие деревни, играм молодежи, прыжкам через костер и т. п. принадлежало особое место.  Юность, теснее связанная с хтоническими культами, с природными силами, имела право (и может быть, даже обязанность) на особые нормы поведения, сознательно противопоставленные этике взрослого человека. Юношеский разгул, полуголодное узаконенное бродяжничество (в мире, где целомудрие, трезвенность и стабильность были религиозно-этическими ценностями) — все это дополнялось и закреплялось особой литературой, песнями подмастерьев, школярской поэзией, лирикой бродяг-вагантов. А в этой литературе переворачивалось и высмеивалось все то, что составляло ценности зрелого общества. Посвящение, инициации с пирушкой означали грань, когда человек порывал свою связь с хтоническим миром, миром природных сил и вступал в лоно законопослушания. В этом смысле шекспировская история принца Гарри, порывающего с толстяком Фальстафом и превращающегося в разумного короля Генриха V, — не есть рассказ о личной судьбе одного гуляки, но общезначимый символ перехода от юности к зрелости. Понятие зрелости в средневековье, впрочем, не столько возрастное, сколько общественное и правовое. Человек становился зрелым тогда, когда приобретал собственность, вступал в права наследования. Зрелые люди, в отличие от юношей, не стремились к созданию собственной оформленной организации, за исключением, пожалуй, вдов, которые пользовались в средние века особым престижем: считалось, что заслуги вдовы перед Богом вдвое больше, чем заслуги обычной женщины (хотя и ниже заслуг девственницы). Но и вдовы не образовывали особую «межсоциальную» группу, а рассматривались как принадлежащие к разряду нищих. Зрелость уступала место старости, которая, в духе библейских норм, рассматривалась как достоинство и знак божественной милости. Впрочем, средневековье редко имеет дело с образом немощного старика, доживающего свой век в стороне от дел. Старики средневековья — обычно сорока- или пятидесятилетние люди, еще не утратившие физической силы, но уже накопившие немалый опыт, и поскольку в их руках находятся наследственные титулы и богатства, обществу приходится считаться с ними, хотя подлинной геронтократии средневековье не знало. О смерти думали много, ибо христианство толковало ее как «рождение в вечность» и никому не было дано знать, удостоится ли он спасения или будет обречен после смерти на вечные адские муки. Отсюда настойчивость, с какой образ смерти — скелет с косой в руках — проникает в предания и живопись. Смерть олицетворяет то земледелец, заливающий кровью поле, то король, ведущий безжалостную войну. Позднее в эти легенды проникают элементы юмора: смерть представляется то ловким картежником, то злокозненным музыкантом, увлекающим всех звуками своей дудки. Страх смерти заставляет человека искать перед своей кончиной церковной поддержки: одни оставляли щедрые подарки монастырям, другие спешили принять монашество. Монастыри охотно шли навстречу этому стремлению, особенно если речь шла о состоятельных людях.  Папе Александру IV пришлось разбирать скандальную историю, случившуюся в Реймсе: некий горожанин был тяжело болен, монахи убедили его — без согласия жены — постричься и передать в монастырь двадцать золотых монет, которые хранились у него дома. После этого больной был перевезен в монастырь, где неожиданно поправился. Тогда он сбросил монашеское облачение и потребовал свои деньги назад. Монахи заковали недавнего больного в цепи и потребовали клятвенного отказа от отданной им суммы... Но вот приходила смерть. Покойника омывали и зашивали в саван — обычно из полотна, пропитанного воском, после чего на носилках провожали на кладбище. Обычай носить траур по умершему засвидетельствован в Испании уже в XII веке. Во Франции он распространился в следующее столетие. Графиня Артуа, похоронив в 1303 году своего мужа, не только облачилась в темные цвета, но и покрыла черной драпировкой кровать и всю комнату. Мужчины в знак траура облачались в черное и иногда брили голову. Церковь установила со временем сложную литургию погребальных обрядов. Некоторые категории лиц не удостаивались церковного погребения — это нераскаявшиеся еретики и самоубийцы. Иной раз монастыри преступали запреты и в поисках материальной выгоды погребали внутри своих стен тех, кто был подвергнут церковному проклятию. Церковь, которая стояла у колыбели младенца, крестив его, провожала покойника в последний путь. И она претендовала на то, чтобы определять и загробную судьбу человека, его погибель или спасение. | |
| Просмотров: 981 | Добавил: Freyja | | |